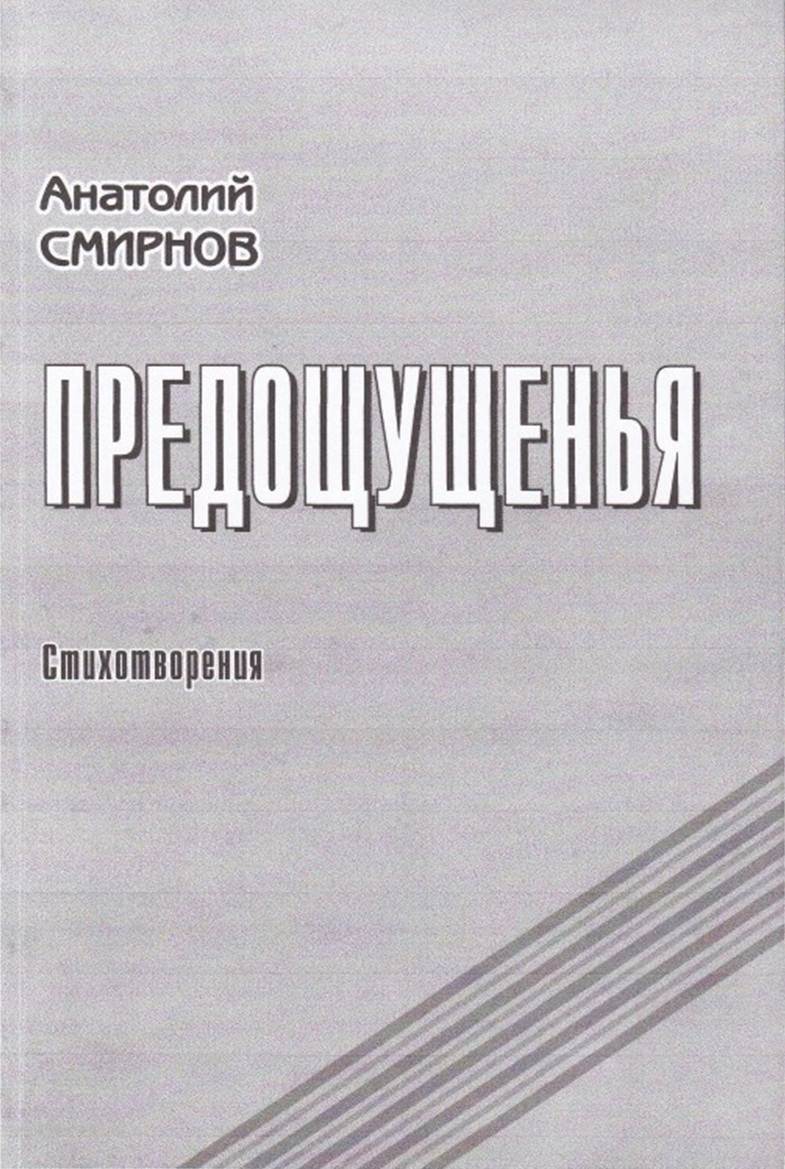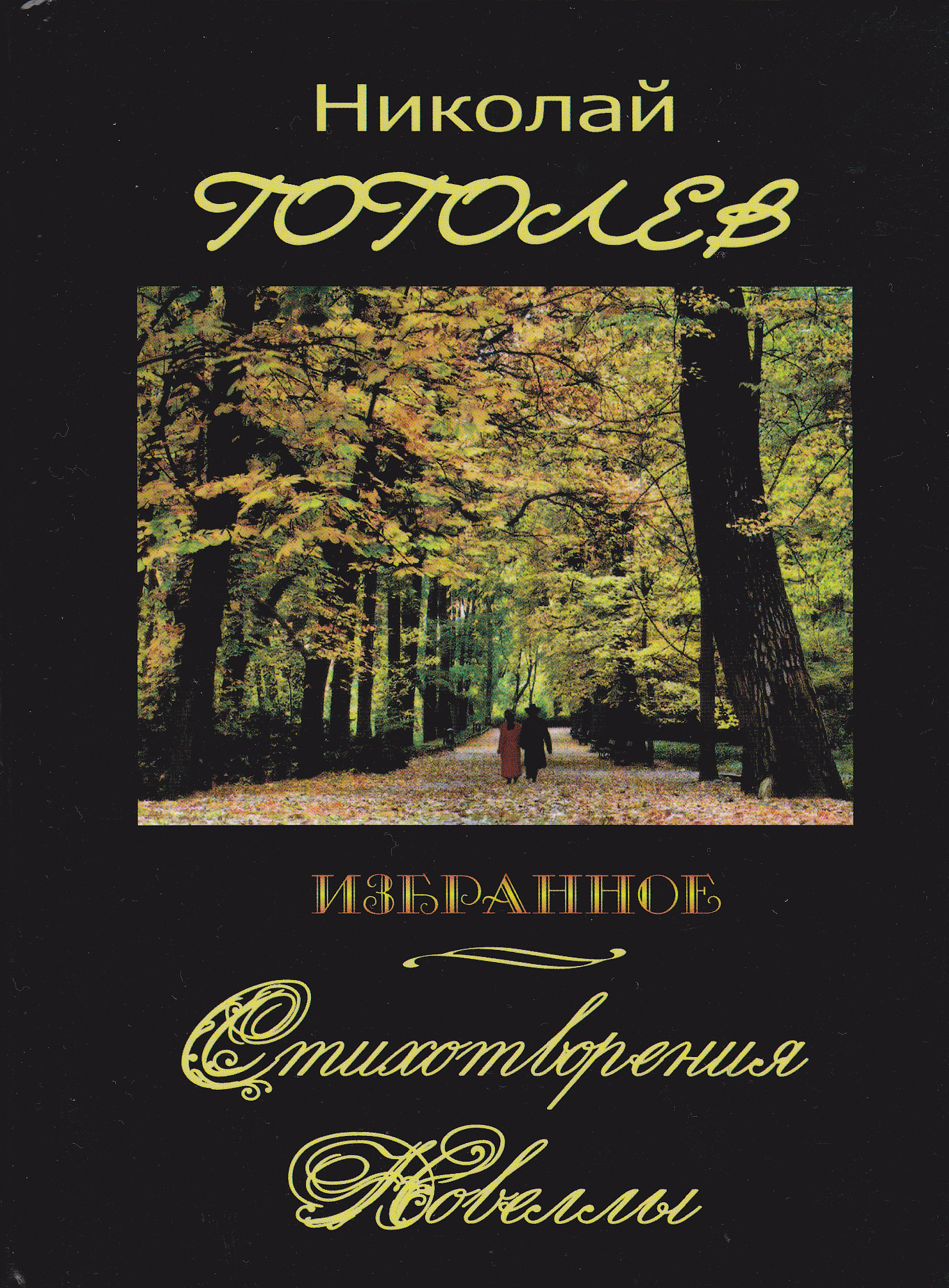|
Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации СОЮЗ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ |
||
|
НАВИГАЦИЯ
|
Архив 2012 г.
* * * Евгений Чеканов, член Союза писателей России: «ЩЕДРОТЫ СЕРДЦА НЕ РАЗМЕНЕНЫ» Журналист-газетчик, бывший сотрудник системы МВД, автор нескольких книг о повседневной работе милиции Владимир Колабухин знает жизнь не только с парадной стороны, ему ведомы и её «тёмные закоулки». Но в его поэзии тьмы нет; стихи светлы, добры, чисты и, прошу прощения за несовременное слово, целомудренны. Где же он увидел, где отыскал в нашей жизни эту целомудренность и чистоту? Ответ прост: чиста и непорочна должна быть, прежде всего, душа поэта. Если она отторгает пошлое и подлое, если её не марает земная грязь, - тогда и стихи, рождающиеся в глубине такой души, будут озарены внутренним светом. И это сияние заметит каждый. Колабухин ребенком пережил войну, начал печататься в 50-х годах прошлого столетия. Сколько лет прошло, сколько всего перевидел он... И умудрился пронести – через полвека с лишним – незамутнённость поэтического мироощущения, столь редкие для нашего времени душевную ясность и нежность. Ничем не запятнал их на долгом пути, не отрёкся от них. Это дорогого стоит. Вчитайтесь в эти строки. Пусть вас не обманывает их кажущаяся простота – к версификационным изыскам автор не совсем равнодушен, иногда может блеснуть и «венком секстетов». Но главное достоинство лирики Колабухина – её внутренняя цельность, рождённая отсутствием пресловутой амбивалентности, расколотости авторского «я». Светлый, доброжелательный, нежный человек встаёт со страниц этой книжки. Каждое новое стихотворение только дополняет этот портрет – но никогда не погружает вас в душевную сумятицу, в темные закоулки гордыни или жестокосердия. Вот такие люди пришли в русскую поэзию в 50-е годы – и живут в ней поныне: ничего из щедрот сердца не растратившие и не потерявшие. Войдите, страждущие... * * *
Мне снился хлеб,
/1974/ ГОЛУБИ П. П. Голосову
Пролетают голуби __________
"НА САМОМ СОКРОВЕННОМ ЯЗЫКЕ" Лирическому герою Анатолия Смирнова, неприкаянному, перезимовавшему девяностые и нулевые, представляется слишком лёгким "без страдания уснуть" в "ледяном дыханьи Бога", потому как ничто настоящее и значимое в жизни, до которого он любопытен и этим заразителен для своего читателя, невозможно без страдания и сострадания к другим горемыкам. Только это даёт основание и придаёт силы жить дальше, отыскивая полузабытые уже и такие немодные нынче человеческие смыслы и налаживая практически с нуля прежний быт: "повторяя в новом камне стены". Смыслы - негромкой любви к большой и малой родине, к матери, к женщине; собственной готовности даже к плахе "за веру друга"; пришедшего наконец понимания "заветов старцев", которые в юности не ценишь, а оказывается, они были по делу: "Слова, словно листья, опали, / все чувства голы, как кусты" - т.е. всё лишнее отпало и чувства обострились к истинному...
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Ты не дуй, морозный ветер, Вслед за сборниками прежних лет "Осенний человек" и "Скверы", новые книги Анатолия Смирнова "Предощущенья" и "Чернила и сугробы", изданные в Ярославле издательским домом "Печать" в 2011 и 2012 гг., безусловно заслуживают читательского внимания и заинтересованного разговора. ____________
4 июня в издательстве ОАО "Рыбинский Дом печати" вышла в свет долгожданная книга избранного Николая Гоголева (Николай Гоголев. Избранное: Стихотворения. Новеллы. Составитель Л. Н. Советников. — Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2012. — 176 с.). Выход в свет книги Николая Гоголева представляется событием высшей справедливости, способным порадовать многих. Его жизнь неотделима от творчества, которое затрагивает самые глубинные, порой интимные, стороны человеческого существования. Поэт не просто жил: страдал, любил, сопереживал – он внимательно исследовал жизнь и проявления собственного «я» в ней, в духовном и плотском, во взлетах и падениях, в поисках любви и самого себя. Последним романтиком Рыбинска называли Николая Гоголева его друзья. Строки стихов НГ, по собственному его признанию, балансируя порою на грани провала, способны были вызывать сочувствие и сопереживание, и теперь есть возможность насладиться ими сполна. АНГЕЛЫ В АГОНИИ
Мы – ангелы, Вернее, нас хотят такими видеть Те, кто не рвался ввысь, Но этот номер не пройдёт: Пример для подражания из нас навряд ли выйдет, Ведь нам в притонах злачных дают права на взлёт.
Что ж, тёмных пятен в наших биографиях обилье. Мы тяжелы характерами, мыслями – легки И в мелких передрягах нам пообрывали крылья, А ангелы без крыльев – уже бунтовщики.
Вставали на колени мы, Но только на мгновенье, Под огненным мечом склоняя головы свои. Как часто казнь над нами превращалась в посвященье, А ненависть и месть мы отвергали для любви.
Мечтали мы всегда о том, чего ни в жисть не будет. А если уж грустили, то и вовсе ни о чём. В поэты посвящали нас чуть ранее, чем в люди, И плечи опаляли пылающим мечом.
А после посвящения, когда с колен вставали И припадали к огненного лезвия струе, Волшебных слов созвучия нам губы обжигали, Но не произносили мы этих слов всуе.
Богема – вот пристанище для ангелов опальных. Для нас – исчадий рая – слов и тем запретных нет. И, кажется, ещё вчера мы были гениальны, Бросая в мир своею кровью купленный куплет.
И вкривь, и вкось, И на авось – Не в храмах, а в берлогах Нам жизнь прожить дано и ставить на ребро рубли, Но есть в богеме что-то, чёрт нас всех возьми, от бога. Богема – это братство непроданной любви.
Пусть в прошлом взлёт, Пусть в штопор гнёт, Не выправить мне крен свой. Пусть рады на земле и в небе: «Ангел мой упал!» Я знал и муки райские и адское блаженство, Ведь даже падший ангел выше всех, кто не летал.
Мы верили всегда, что и бессмертье – тоже крайность, Смирясь, что слишком рано нас земля в себя зовёт. Агония для ангела легка, как гениальность, А наших павших вороньё привычно отпоёт.
_________
Елена Александровна Карасёва (литературный псевдоним Елена Ивахненко) родилась в 1971 году. Закончила лесной техникум, в настоящее время учится в Рыбинском педагогическом колледже. С юности пишет стихи, лет с тридцати стала пробовать себя в прозе. Состоит в литобъединении им. Н. Якушева г. Рыбинска. Публиковалась в литературных приложениях к газете «Рыбинские известия», в газете «Ярославская молва», в сборнике стихов рыбинских поэтов «Струны души», в «Ярославском альманахе» (2009), в поэтическом сборнике «Чем жива душа».
КОРОЛЕВСТВО НАТАШИ КРАЮХИНОЙ Повесть-сказка
Но Иисус, подозвав
их, сказал: пустите детей
ТАМ, ГДЕ МОЯ НАСТОЯЩАЯ МАМА
Ух ты, снега-то сколько! Все лавочки возле нашего детского садика засыпало! Аж прямо на целую мою ладонь! И все кусты во дворе заснежило. А на крыше беседки, словно еще одна крыша выросла — снеговая. А наша воспитательница говорила, что снегу падать еще рано. Сперва праздники будут ноябрьские, а потом уже и снег. А вот и не угадала она! А еще взрослая называется. Я и то знаю, что снег нарочно пораньше выпал, чтобы праздники пришли побыстрее, и нас бы домой забрали. Потому что наша группа — круглосуточная. Других из детского садика каждый день забирают, а нас только на выходные. Или на праздники. А до праздников еще два дня. Вот сейчас варежку с руки сниму и посчитаю: Так... Целая ладошка — это пять. Пять пальцев. Один загнуть — будет четыре. Это мне сейчас — четыре года. Но когда меня спрашивают, сколько мне годиков, я всегда полную ладошку показываю. Нет, я не вру. Я и сама знаю, что врать нехорошо. Просто хочется, чтобы побыстрее пять исполнилось. А дней в неделе от выходных до выходных тоже пять. Только эта неделя короче — четыре дня. Теперь еще палец загибаю. И еще два. Два дня осталось. Ой, мамочки, как же мне эти два дня дотерпеть?! Пока я считала, у меня и пальцы замерзли. И во дворе темнеть стало. Теперь снег и небо одного цвета. Весь мир сейчас как будто всего двумя красками нарисован: деревья и беседки — черного цвета, а снег и небо — синего. Я сажусь на качели и гляжу, как медленно-медленно небо становится темнее снега. Словно кто-то добавляет и добавляет в него густую черную краску. А фонарь у меня над головой, наоборот, светлеет. Он весь день спал, а теперь расцвел. Какой у него цвет сейчас красивый! Когда мама в ванне марганцовку разводит, такой же цвет получается. А фонарь все бледнее и бледнее. Будто мама в ванну воды долила и марганцовку разбавила. В такой воде она меня искупает, когда домой заберет. Искупает, в полотенце завернет, и в макушку поцелует. И скажет обязательно: — Цыпленок ты мой мокренький! Только этого еще дождаться надо. Вот и совсем стемнело. Всех уже домой позабирали. А мы, которые круглосуточные, остались. — Хочу к папе! — ревет моя подружка Маринка Ковалева. Она бы к маме просилась, но у нее один только папа. А у меня одна мама. Но она, наверное, ненастоящая. Была бы настоящая — она бы меня каждый день из садика забирала. Я ведь так ее об этом прошу! Значит, она ненастоящая. Так чего же о ней и плакать? А настоящая моя мама, наверное, живет на звезде. Воспитательница, Анна Николаевна, говорила, что только отсюда, с земли, звезды маленькими кажутся. А на самом деле они большие-пребольшие, и на некоторых из них живут люди, похожие на нас. Наверное, и мама моя там живет. Но до нее далеко-далеко. И если я закричу ей, она не услышит. А что если думать и думать о ней? Может, тогда она услышит? И прилетит. И будет на ней звездное платье, все сверкающее, как снег под фонарем. И она унесет меня туда, на нашу звезду. И там уж никто не будет ломать мои игрушки, отбирать конфеты, дергать за волосы. Потому что в этот дрянной садик к этим драчунам она меня больше не отпустит. — Наташа! Я оглядываюсь. Мама! Нет, не со звезды. Самая обычная моя мама. И не в звездном плате, а в своем клетчатом пальто и в белой шапочке. Но все равно я бегу к ней быстрее ветра. А когда она берет меня на руки и целует, я прижимаюсь к ней крепко-крепко, и про звездную маму уже не помню. Вот она, здесь! Настоящая. Моя! — Нет, сегодня я тебя не заберу — говорит она. — Я проведать тебя пришла. И протягивает мне пластмассовую собачку. И еще мандарин. — Мне на работу пора. Ну, не плачь, Наташка, не надо. Послезавтра я тебя возьму. А я все равно плачу. — Наталья! Мама вытирает мне слезы. — Ты же знаешь — я на двух работах работаю. А если бы только на одной, то нам и спать было бы не на чем. Ну, все, все! Иди к ребятам. Она уходит. Значит, все-таки ненастоящая. Я же знаю, как волк к семерым козлятам приходил, мамой их притворялся. И про то, как он бабушкой притворялся. А Красная Шапочка поверила. Нет, та тетя, которая сейчас ко мне приходила, она не волк. Она не злая. Но — не моя. И этот детский садик тоже не мой. И эта улица за толстой оградой — тоже не моя. И автобусы, которые там по дороге ездят — тоже не мои. Там, где я была раньше, никаких автобусов не бывает. Это здесь взрослые все боятся, что мы под машину попадем. А там, где я раньше была, так хорошо, что даже и бояться нечего. А как там красиво! Люди там светятся. Только не так, как лампочка. И не так, как фары автобуса. На этот свет глядеть совсем не больно. Не то, что на лампочку. Только я не помню, где это. Наверное, на звезде.
Шлеп! — Это кто-то из наших в меня снежком кинул. Дураки... Ну, чего они мне думать-то мешают!? На нашей звезде и то таких дураков нет. Там никто никому не мешает. Еще снежок! И еще! Надоели. Больно же все-таки! А там, где я жила раньше, мне никогда не было больно. Только бы вспомнить, где это было. Но только разве наши дадут вспомнить? Вредины... Уйду-ка я от них на соседний участок. Вон в ту беседку. Там как раз уже нет никого. Только если Анна Николаевна увидит, что я не на своем участке, она меня отругает и обратно уведет. А на нашей звезде гулять везде можно, где захочешь. Я бы лучше туда ушла. Насовсем. Но как долететь дотуда? Почему про мою звезду мне никто-никто не рассказывает? Про Африку рассказывают. И по телевизору я про Африку смотрела. Про слонов, крокодилов. Про белых медведей на северном полюсе — тоже смотрела. А про самое такое, что мне нужно — про то, где я раньше жила — про это все молчат, как будто этого и не было. А вдруг и вправду не было? Вдруг мне просто сон такой приснился? Как обидно-то! Как обидно! Так, что зареву сейчас! Но словно какой-то голос говорит мне: — Было! Было не во сне, а на самом деле. И будет опять. Когда ты снова туда попадешь. — А куда — туда? И когда я там опять буду? — спрашиваю я у кого-то. И опять не слышу голоса, который говорит со мной. Но почему-то знаю, что Он, кто-то, — говорит, отвечает мне. И еще я знаю, что Он оттуда — со звезды. — Ты меня с собой возьмешь? — спрашиваю я. — Тебе еще рано. Ты еще ничего не сделала здесь. Ни плохого, ни хорошего — отвечает мне Он. — А что мне сделать надо? — спрашиваю я. Обидно мне — неужели за просто так меня обратно на звезду не возьмут? Я ведь и делать еще ничего не умею. Это только взрослые умеют. Это что же мне — до взрослой ждать? И вообще, где Он сам-то? Тот, кто говорит со мной? Почему глазами я его не вижу? Знаю только, что Он где-то совсем рядом. Я и маму так же угадать могу с закрытыми глазами — в комнате мама или уже ушла. А, может, мне его поискать? Может, он со мной играет так? Я оглядываюсь. За беседкой Его нет, за деревом — тоже нет. И вообще во всем дворе никого нет. Ни одного человека. Только снег молчит и падает, падает, падает. А фонарь уже не марганцовочного цвета, а белого, холодного. Теперь понимаю, почему говорят: «А мне до лампочки». То есть все равно. Вот и фонарю этому холодному все равно, что со мной будет. И снегу все равно. Я дергаю двери садика — двери закрыты. Так и есть — все ушли, а про меня забыли. А, может, не забыли? Может, нарочно здесь оставили, чтобы Кто-то пришел и забрал меня на нашу звезду? Ну, конечно же, как я сразу не догадалась? Тогда пусть скорее забирает! И я выхожу на середину садиковского двора, чтобы Ему было видно меня сверху. И жду. Сейчас! Сейчас! Прямо сейчас! ____________
Жанна РайгородскаяПод круглым солнцемРассказ 1 В тот вечер я
дремал в своём зимовье, растянувшись на медвежьей шкуре у самой
печки. Созерцал языки огня и перебирал в памяти дни сражений, ночи
любви, строки своих и чужих стихов. Подчас мой сонный взгляд
цеплялся за висящую на гвозде зеленую треуголку, опушённую заячьим
мехом – виновницу моей ссылки. Треугольник… Три грани – свобода,
равенство, братство. Стрела, устремлённая в завтрашний день.
Я давно знал об этом величайшем из стихотворцев. Сын военного
министра и фрейлины, взращённый преданными слугами, он всю жизнь
тянулся к людям простого звания и знал народ, как никто, оставаясь
притом дворянином. Нечаянный случай нас познакомил.
– Послушай, малый... Что это ты читаешь? Я поднял глаза и чуть было не превратился в степного идола. Лицо, наверное, застыло в маске удивления – брови домиком, рот пещерой. Покупатель был невысокий, смуглый, живой. На пышных чёрных кудрях пустынным островком в штормящем море белела шляпа. Круглая. Я узнал его и сдавленно прошептал: – Вас читаю…э-э…сударь. Ал-Се вгляделся и, как ни странно, узнал меня. Мы виделись год назад в одной гостиной, были представлены друг другу, я тогда совсем потерялся, а стихотворцу было недосуг заниматься моей скромной персоной. – Сл-Пред, что ли? Прости, милый друг, не признал. Ну, как пишется? С востока в тот день ползла перламутровая туча с грифельно-серым подбрюшьем, но мы были заняты друг другом и ничего не замечали. За всё время торопливого, сбивчивого разговора поэт не дал мне понять, что мы – идейные враги, да ещё и неровня – как по рождению, так и по дару. И лишь когда я протянул ему сборник и карандаш для ведения торговых записей, поэт начертал на чистом листе: “Певец! Издревле меж собою Враждуют наши знамена. То ваша стонет сторона, То наша гнётся под грозою. Но в честь поэзии святой – А та затмит саму науку! – Дозвольте ж барскою рукой Пожать воинственную руку!”
Туча тем временем
заволокла весь окоём. Зной не спадал. По улице заклубились серые
змеи пыли. Хлынул дождь и я предложил к услугам гостя свою палатку,
изрядно её переоценив. Вдруг стало зябко.
Такой уж климат в нашей отчизне: плавимся от зноя, а через пять
минут зубами стучим. Струи хлестали, как плети. Шатёр трясло, как
больного в ознобе. Я спешно уложил книги в ящики и взялся за каркас
палатки сбоку, чтобы не унесло ветром. Ал-Се встал с другой стороны.
Мутная вода струилась по его щегольскому, табачного оттенка,
сюртуку, но поэт стоял намертво, как атлант, держащий небесный свод.
После дождя по земле запрыгали мелкие горошинки града (ни дать, ни
взять клюква в сахаре!), а мы всё стояли – он в круглой шляпе, я в
треуголке. Но всё кончается, и гроза прошла. Мы расстались друзьями.
А через два года началась война. Круглые задавили нас, и я попал в
ссылку. 2
Словом, я угрелся
близ печки, как древний ящер на солнцепёке, и задремал. Пробудил
меня слабый стук в дверь. Так могли стучать женщина или отрок, а
может, обессилевший путник. Хотя… Могли пожаловать и рыцари ночи. Я
снял со стены ружьё и через дверь вопросил:
– Не обессудьте… Сл-Пред, блистательный певец оружия, любви и вина,
здесь обитает? – А всё ж таки, назовитесь! – Моё имя ничего вам не скажет, великий мэтр. Но поверьте, я преклоняюсь перед вашим талантом и счастлив буду познакомиться лично!.. Тщеславие и любопытство заставили меня отворить. Быть может, посланец ада пришёл искусить мою бунтарскую душу? Гость мой и вправду был какой-то… сверхъестественный, что ли. Здесь – посреди январской тайги! – его рыхловатое тулово обтягивала замшевая шоколадного цвета куртка с кожаными цветами, аппетитная, как трюфельный торт. На ногах я углядел щегольские сапожки на перламутровых пуговках! Богатые кудри пришельца, его усы и козлиная бородка отливали адским лиловым сиянием. А посреди вечернего моря волос королевской яхтой светилась канареечно-жёлтая треуголка. Вот кругляши, жандармы клятые!.. Арестовали чуть не в халате, завезли в стыло-звенящую глушь, бросили на морозе… Я увлёк гостя в дом, вынул лосиный окорок, плеснул агвы… При виде агвы хитроватые глаза незнакомца замаслились, заблестели. Медленными глоточками он стал смаковать напиток, слизывая с усов искрящиеся прозрачные капли. На вид ему казалось около полувека. Лиловая масть не почудилась мне – пришелец красился, стараясь, видимо, казаться моложе. Бородка клинышком и отнюдь не впалый живот придавали ему сходство с развратным сатиром. Потягивая зелье, пришлец завёл столь дивные речи, что я снова усомнился – а может, всё ещё сплю? – Мы знаем вас, как величайшего из треугольных поэтов. Но ведь при жизни у вас не вышло ни единого сборника… – Милостивый государь!.. Что это значит – при жизни?! Я в домовину не тороплюсь! – вспылил я, слегка захмелев. – Сударь, – осторожно осведомился гость, – вы читали северного писателя… запамятовал, как звали… Про галоши, исполняющие желания? – Что-то припоминаю. – Помните, как советник юстиции перенёсся в давние времёна? – Помню. – Люди прочли, вдохновились и придумали средство передвижения во времени!.. Я – ваш далёкий потомок, поэт и гражданин Вселенной Дран-Цоу! Должен вас обрадовать – в будущем треугольные победили круглых! – Да что вы!.. Я вскочил и заключил доброго вестника в медвежьи объятия. Секунду мы ломали друг другу кости, пока я не сообразил, что надо всё-таки быть рыцарем. Тогда я усадил его на место и налил ещё. – Что вас сюда привело? Пишите исторические поэмы? Баллады? – Я приехал за вами. Мы решили воздать вам должное!.. Выпустить полное собрание ваших сочинений! Уж в будущем-то вы развернётесь!.. – Но… Почему всё-таки я? А как же?... – До них дойдёт очередь, – успокоил меня Дран-Цоу. – Ну как? По рукам? Я споро покидал в перемётную суму нехитрые пожитки, свой дневник и сборник Ал-Се, прицепил к поясу беспорочный кинжал и пошёл за своим вожатым. За ближней ёлочкой, как оказалось, таился некий аппарат – металлический цилиндр с низенькой дверкой. Внутри нас ждали мягкие бархатно-серебристые кресла. Я опустился в одно из них и незаметно для самого себя позабылся сном.
Очнулся я в комнатушке, как трюм торгового корабля, набитой предметами роскоши. Двигаться в этой мышеловке следовало осторожно. Я лежал на тахте, прикрытый пушистым пледом, и ноги мои доставали до полу. Со всех сторон меня давили: молочно-белая ягода плафона, книжные шкафы от пола до потолка, оружие, развешанное на червонно-сиреневом длинноворсом ковре. Ух, что там было!.. В центре – кольчуга с наплечниками, украшенная орнаментом из цветов и листьев. Над нею, на цепях – шлем с кольчужной сеткой. Боевой топор с лезвием-полумесяцем… Кривая сабля с потемневшим от времени и крови аршинным клинком, прорезанным посредине бороздкой, с витой позолоченной рукоятью… А вот от картин, висящих по стенам, меня замутило. Отрубленные головы, руки, ноги; обнажённые женщины, кое-как затушёванные грязно-зелёной краской. Как-то раз я видел подобное… на войне, в жизни. На дне пруда, к которому подошёл напиться. Да ещё и узнал, что лиходеи – мои соратники, треугольные. Не стыжусь признаться – я взялся гнать след, а когда нашёл изуверов, рука не дрогнула. Скрипнула дверь. Я едва успел надеть треуголку. Встретить незнакомца, не покрыв голову – позор для мужчины. Дамам позволено обходиться без шляпы, равно как и примерять оную. Всё равно женщину никто не примет всерьёз. Но хуже нет для рыцаря показаться без шляпы ребёнку. Дитя немедля воспомнит сказочного Простоволосого Людоеда, для которого, как известно, нет ничего святого. Вовремя я поспел! На
пороге явилась барышня лет девяти в шоколадном платьице и кружевном
передничке. В руках хозяюшка держала поднос с кофием и поджаристыми
рогаликами. Я в ужасе покосился на похабную мазню, но девчушка будто ничего и не заметила. Дочь моего спасителя отказалась преломить со мной хлеб, опустила поднос на стул и кузнечиком ускакала в другую комнату. Я же, с акульей жадностью проглотив угощение, минуту размышлял, что предпочесть: книги или оружие – и выбрал, разумеется, фолианты, среди которых очень быстро отыскал собрание сочинений Ал-Се. Я был как кот в
кишащем мышами погребе. Мой изголодавшийся, лихорадочный взор блохою
прыгал с одной страницы на другую, как вдруг я ощутил, что
безжалостная рука провидения протыкает меня, как шашлык – шампуром.
Та же боль и то же бессилие. … И стали мы пятою
твёрдой, и бунт подавленный умолк… Врагов мы в прахе не топтали, мы
не сожгли твердыни их… Лишь в ту минуту я постиг: Ал-Се был круглым
по кости и крови. И в грозную годину огня и боли он поддержал своих.
По убеждению. Конечно же, он пригласил меня в собрание. Действо происходило в каменном особнячке близ центра города. К слову сказать, от града сего, возросшего за двести лет посреди тайги, у меня голова пошла кругом. Дома величиной с гору, будто слепленные из пчелиных сот… Фырчащие дымом безлошадные фургоны взамен привычных извозчиков… Это обескураживало. А уж собрание переполнило чашу. Стихи потомков были очень туманными. Змеиные лапы, акульи пятки, дельфиньи руки ветров и тому подобные прелести сыпались, как захватчики со стен осаждённого города. Дран-Цоу похваливал. Я же ни беса не понимал и зевал через ноздри, сжав зубы. Впрочем, я же самоучка в поэзии. Я дикарь. Неотёсанный вояка. Мужлан. Два века назад я точно так же томился на концертах классической музыки. Однако тосковал я
недолго. В собрании сидела дама, вернее, барышня лет двадцати с
небольшим. Чуть выпуклый смуглый лоб, утиный носик, широкая, как
арбузный ломоть, улыбка – всё в ней напоминало юного дельфинёнка,
весёлого, добродушного. Зато одежда… Кудри мои зашевелились,
приподняв треуголку. Даже панельные девицы моей эпохи одевались куда
пристойнее. Кожаная изумрудная безрукавка от ключиц до пупка и такая
же чудовищно куцая юбочка. Грех сказать… но все прелести были нагло
и умело подчёркнуты. Я вчера вырвался из тайги. Я забывал себя,
предаваясь дерзким мечтаниям… и в то же время страшился, не затеяла
бы она читать. Не люблю я женского творчества… Я слушал сказку и думал думу. Не ведаю, кто подучил благородную деву одеться погибшей женщиной, но извечную суть прекрасного пола, суть целительницы и верной подруги, ей спрятать не удалось. Лягушечья кожа обезображивала принцессу, но чары злых волшебников оказались бессильны. Впрочем, один из колдунов не спешил сдаваться. –
Наи-Ду, – заговорил Дран-Цоу, многомудрый наставник, – Наи-Ду делает
лишь первые шаги в творчестве. Бабочка в коконе живёт предчувствием
полёта. Девушка, созрев, живёт предчувствием праздника плоти. Но
женские предрассудки – трезвость, целомудрие, доброта – не дают
Наи-Ду стать творцом. Девушки боятся жить в реальном, не придуманном
мире. Ещё бы! В каждой подворотне сидит насильник. Агва тоже
поначалу кажется горькой. Но писатель должен перебороть себя!
Суперпоэт Драв-Ква писал: “Сердце ребёнка на серебряном блюде”.
Ханжа скажет – нельзя. Но мы, жрецы истины, знаем – нам позволено
всё!.. Скажу больше. Женщина – камень на шее творца. Сверхчеловек
рвёт кокон, крылья влекут его вверх, он летит как стрела разящая, а
самка – сестра, мать, жена – тянет вниз, в болото. Ещё трагичнее,
когда создатель сам рождается женщиной. Он должен задавить в себе
женское начало! Наи-Ду! Хватит прятаться в сказочки! В наше время
писать сказки – всё равно, что ходить в лаптях! Иди в подвал!
Отведай агвы! Отдайся бродяге! Ты познаешь настоящую жизнь – и
станешь творить миры! – Я понимаю, учитель… Но… у меня на сказки… как бы сказать… талант!..
– Что б я больше этого не слышал – мой талант! – возопил Дран-Цоу
павлиньим голосом. – Моё творчество! Вы дурно воспитаны, барышня!..
Здесь всё-таки очаг культуры!.. … Мало-помалу люди начали расходиться. Дева сидела, поникнув головою, прикрыв рукою маково-алое лицо. Порою на свалке, среди крапивы и лопухов, негаданно вырастает нежный, обречённый цветок – настурция. Мимо скольких обречённых цветов я прошёл… Неужто пройду и сегодня? Дран-Цоу глядел на
барышню другими глазами. Так смотрит пожилой степняк на юную рабыню
– жаль её, конечно, но пусть привыкает к суровой правде… Впрочем… Ко
правде ли?!... Для каждого игрока, самого азартного, наступает момент, когда внутренний голос говорит: всё. Игры кончились. Пойдёшь дальше – сам себя предашь и погубишь. Одни находят силы остановиться. Другие проигрываются дотла. Наи-Ду не хотелось давить в себе женщину. Верная своей природе, она стремилась беречь себя, а не разбазаривать. Я хотел поддержать её… И поддержал. Подошёл и осведомился: – Сударыня… Вас проводить?..
4
Как передать словами чары осеннего вечера, хрупко-розовые сухие листья клёна, лежащие на земле, будто подсвеченное солнцем безе! Янтарный осенний листок сидел на остром каблучке моей спутницы, будто шашлык на шампуре. Порядочно же я изголодался в своём зимовье… Я говорил, что и Дран-Цоу может ошибаться, что нельзя рушить фундамент, на котором хочешь построить своё жилище. Слова мои падали в душу девушки, точно капли дождя – в истомлённую засухой землю. Воображение моё неслось впереди, рисуя неизъяснимые наслаждения… Я дрожал от грешного желания и суеверного ужаса. Чудилось, что этот волшебством обретённый мир хрустальной вазой рассыплется на осколки. А я очнусь в своей избушке – выброшенный из жизни бунтарь. Толкуя, мы незаметно дошли до огромадной домины в полдюжины этажей. Повсюду валялись пустые бутылки. Жалобно, как озябшая кошка, скрипела дверь. Прощаясь, дева неожиданно страстным движением запрокинула голову… А я оторопел. У них что, принято целоваться в первый же день знакомства? Усилием воли стряхнул я бесовское наваждение. Поклонился, бережно поднёс к губам тонкую руку барышни. Девушка вздрогнула и посмотрела на меня, как на призрак. Затем, однако, её полные губы расплылись в сияющую улыбку. Мы уговорились свидеться завтра, и я, вне себя от свалившегося на меня счастья, пошёл на квартиру к своему благодетелю. Как странно и как привычно – чертополоху тридцати семи лет мечтать о расцветающей лилии!.. Впрочем, о расцветающей… или расцветшей? Эта её короткая юбка… Удивительная для девушки чувственность… Не попал ли Дран-Цоу пальцем в небо, полагая её весталкой? Впрочем… Мне ли, вечному мятежнику, неважнецкому – заранее знаю – отцу и мужу, быть переборчивым? Пусть она любила кого-то, пусть даже принадлежала ему – я переступлю это, как шелуху от семечек… И тут я стал
приглядываться к вывескам. Ох! Сплошные полуголые кокотки. Прохожие,
видно, просто перестали их замечать. Одна же афишка попросту сразила
меня. Ещё десять шагов. Винная палатка. Ряды фигурных сосудов. Один, млечно-белый, был выполнен в форме женской фигуры. Точёный грудастый торс опоясывал кушак с надписью “Материнское молоко”. Бррр!... – Свежая пресса!.. Последние новости!.. – пронёсся мимо меня мальчуган-газетчик. Я вручил ему
серебряную монету с профилем короля, развернул листок и присел на
лавочку. Внезапно липкий ужас застудил кровь в моих жилах. На улицах я не заметил ни одной круглой шляпы. Куда делись круглые? Крен в одну сторону опасен не только для корабля… Неужели их… Я содрогнулся. Двести… Нет, теперь уже четыреста лет назад, когда нравы были совсем ещё дикими, круглые нам устроили Чёрную ночь… Убивали женщин, детей… Неужели и мы… Не в силах более
терпеть неизвестность, я встал со скамьи и почти побежал к Дран-Цоу.
5 Однако, едва я увидел своего спасителя, как мы заговорили о другом, а потом у меня пропала охота спрашивать его о чём-либо вообще. Дран-Цоу возлежал на тахте, облачённый в атласный халат кораллового цвета. Средь изумрудных, вышитых шёлком ветвей резвились малиновые драконы, будившие во мне какую-то неясную думу… Я пробовал её ухватить, но мысль, вильнув хвостом, исчезла в лабиринте прочитанного и передуманного. Не успел я подивиться странному обычаю принимать гостей лёжа, как новоявленный калиф, приподнявшись на локте, показал мне кофейного цвета томик с золочёным тиснением. – Ал-Се? – осведомился я, опускаясь в кресло. Дран-Цоу кивнул. – Златая голова! – прицокнул он языком. – Вкусно пишет! Вот только свободомыслия ему не хватало!.. Слишком уж стремился понравиться королю!.. Я удивился. Ал-Се как раз отличался огромной любовью к свободе и отношения его с королём были довольно сложными. Так я и сообщил потомку. Поэт, вздыхая, открыл томик на середине.
– Не хотел я открывать тебе позорную истину… А придётся. Во время
злосчастного мятежа Ал-Се в угоду королю глумился над поверженным в
пыль противником… – Сие не есть глумление, да ещё в угоду кому-то. Сие называется – высказал человек, что думал. – И повторил вслух утреннюю свою мысль: – Если бы мы победили, я бы не меньше торжествовал. Наверное, не стоило читать старику мораль, но я долго жил в избушке, многое понял и готов был угощать плодами своих раздумий кого попало.
– У каждого свои кичливые игрушки, сударь. Это не мое выражение, а
кого-то из древних. Кажется, Флариния Серпента. Но горе тому, кому
кичливые игрушки застят весь мир!.. – По-твоему, я порочу Ал-Се?! – в тоне Дран-Цоу прорезалась угроза. – Вы треугольный, и вы пристрастны, – ответил я. – Напротив, я намерен восстановить истину. Ал-Се был величайшим из гениев. А наука доказала, что все великие люди порочны, безнравственны. Почитай-ка Драв-Ква!.. Драв-Ква… Где я
слышал это имя? Ах да! Сердце ребёнка на серебряном блюде… На дне моей души, будто лягушонок в кринке, завозилось очень нехорошее предчувствие. Будь Дран-Цоу фанатиком треугольной идеи, он бы вспылил. Я бы на его месте задумался. Так нет же. С хитростью иезуита добивался он своего. Есть люди вроде персика – снаружи мягкие, внутри твёрдые. Есть похожие на орех. Дран-Цоу же походил на луковицу. Чистишь её, снимаешь слой за слоем, ищешь суть, а там ничего и нет. Только зря наплачешься. – Ал-Се не был врагом бутылки, ухаживал за чужими жёнами, – вещал между тем Дран-Цоу. – Подумай, сколько женщин он оставил несчастными!.. – Или счастливыми, – вставил я. По губам потомка скользнула очень понимающая улыбочка, однако он с упорством, достойным лучшего применения, гнул своё. – Сколько раз он стрелялся на дуэлях… – Он никого не убил и не ранил, – перебил я. Дран-Цоу опять заохал. – Грех сказать… Но в чёрный день своей последней дуэли Ал-Се желал смерти молодому повесе… Который мечтал всего лишь… … Я привожу здесь не все слова. Не привык я марать бумагу площадной бранью. Вскоре после этого разговора я узнал, что у идиотов-потомков самые грязные ругательства приближены к самым ласковым словам. Недаром жалкие отпрыски превратили Нарцею в бардак. Вот уж воистину – вначале было слово. На ругань Дран-Цоу я отвечал по старинке. Кивнул на увешанный железом ковёр и спросил: – Каким оружием владеете? Я читал, что петух, на которого наскакивает более сильный кочет, не принимает бой, а делает вид, что клюёт зерно, и противник теряется. Так же и Дран-Цоу, вместо того, чтобы скрестить шпаги, открыл дискуссию. – Ты ещё многого не понимаешь в нашем мире. Никто сейчас твоих стихов не издаст!.. Слог у тебя убогий и старомодный. А содержание!!! Встал, пошёл, убил врага, защитил своих… Ты пишешь при температуре тридцать шесть и шесть! В то время как истинный творец хватается за перо, лишь объятый сорокоградусным жаром!.. Вот откуда змеиные
лапы и акульи пятки, смекнул я. В бреду ещё не то привидится. – Я хотел слегка подучить тебя, – продолжал Дран-Цоу, – дать вторую жизнь яркому дарованию. Я вытащил тебя из ссылки… – Зачем? Чтобы я очернил память гения? – Ты думай! Мысли! – поэт перешёл на шёпот. – Что хорошего тебе сделал Ал-Се? Подержал палатку во время грозы? Мелочи жизни! А я даровал тебе свободу – раз! Издам собрание сочинений – два! Потом… Я видел, тебе понравилась Наи-Ду. Сейчас она моя женщина… Вот уже две недели. Но если ты захочешь её… – Защищайтесь, сударь! Волчья шкура сползла следом за овечьей. – Как ты можешь, – заскулил шакал, – бросать перчатку пожилому человеку… Знавал я воинов, кои, даже перешагнув за пять дюжин, не опускали меча. Но тут… Не поднялась у меня рука. Молча я начал сбирать свой скарб. – Ещё воротишься! – крикнул мне вдогонку Дран-Цоу. Я в самом деле воротился. Но об этом чуть позже.
6 Я забрёл в стеклянный, словно леденцовый, трактир, сел за хрупкий столик на тонких паучьих ножках. Пить я не стал. Агва лишила бы меня рассудка. Вино подлило бы масла в огонь тоски. Я взял котлету с заморским земляным яблоком и солёным огурчиком и принялся за трапезу. На эстраде пиявками извивались мальчики-подростки в широких радужных юбках и длиннокудрых париках. Вслед за ними поднялся на помост юноша лет двадцати пяти в антрацитово-чёрном штатском костюме. Я отметил, что роста он среднего, телом плотен, бороду бреет, успел позавидовать васильково-синим глазам… И обмер. Парень, единственный во всей корчме, носил круглую шляпу!.. Круглый среди множества треугольных… Смельчак, однако!.. Парень дрожащими пальцами заправил за ухо упрямый вихор, и – вначале робко, а затем всё увереннее, как птенец, отлетающий от родного гнезда – начал читать стихи.
Отчизну иноверцы славят, А завтра – огненным дождём Сожгут поля, дома расплавят, Воспоминанья не оставят. Неужто этого мы ждём?
Увы!.. Мы не готовы к бою – Извечный спор между собою Нарцузов разума лишил. Жрецы стрелы, адепты круга Мечтают извести друг друга, Убив на то остаток сил.
Забыв о чести и законах, Чужие пачкают знамёна… А в море тонут корабли, Ржавеют танки, самолёты… Неужто, люди, вам охота, Чтоб на порог враги пришли?
Малый в своих созданиях явно шёл по стопам Ал-Се, но я и тому был рад. Я уж думал, они тут все помешались на дельфиньих руках и акульих пятках. По залу кафе пробежал угрожающий гул. Яблочный огрызок ударил поэта в щёку. Парень машинально потёр ушибленное место и глухо сказал: – Я понимаю. К вам пришёл человек с того берега. Вы оказались не готовы. Пусть. Спрячьте мой совет в тайный сундучок вашего сердца и выньте, когда придет пора наводить мосты. Прощайте. С этими словами незваный гость проследовал к выходу. Его не задерживали, но я углядел, как из-за углового столика поднялась четвёрка толстолобых силачей и, не расплачиваясь, выскользнула в дверь. С меня-то получили презренный металл. Зато когда я вышел на вечернюю улицу, картина открылась мне во всей полноте. Стихотворец лежал навзничь, осёдланный кем-то из громил. Справиться с ним, похоже, не составило труда, ибо рядом переминались с ноги на ногу ещё двое молодчиков, а третий лениво попинывал жертву под рёбра. Седовласый старец в роговых окулярах – его я раньше не видел – барственно цедил сквозь частокол золотых зубов: – Черепком его об земельку!.. Чтоб не был таким умненьким, падла!.. Пальцы мои мимовольно коснулись ножен. Кинжала не было!.. Я оставил его у Дран-Цоу с дневником заедино. Ах я колпак, молью траченный!.. Ладно. Раскидаю. А не выйдет, значит, так тому и быть. Я успел осознать,
что в драке с подобным противником дворянская честь мне только
помешает. И я заставил себя отодвинуть плиту, под которой покоились
воспоминания несчастливого детства, в коем не было воина,
заслужившего дворянство, а был полунищий школяр-заморыш с
продранными локтями и полуоторванными подмётками. Изо дня в день я,
сын приживалки, отстаивал себя. А маменька дома и батюшка в храме –
оба, естественно, круглые – знай сюсюкали – угождай, угождай…
Поддерживай мировой порядок… Взорвали!.. Спустя пять минут
могучие дубы полегли, свороченные ураганом. Выбитая челюсть,
сломанное предплечье, удар затылком о каменную стену… Что сталось с
четвёртым, я не упомню. Роговой же старец выудил из кармана
странного вида коробочку и что-то в неё нашёптывал. Я же, решив, что
драка закончена, подбирал с мостовой трофейный нож. Лишь теперь до меня дошло, что все пятеро шакалов были без шляп. Тайная полиция, что ли? Или наёмники? – Сударь!.. Бежим!.. Он вызовет подкрепление! Действительно, из переулка акулой выплыл траурно-чёрный безлошадный фургон, из которого посыпались бритоголовые вояки. Я было растерялся… Но оклемавшийся пиит ухватил меня за руку и потащил в ближайший проходной двор.
7 – А далеко ли? – осведомился я. – На окраину города. – Но ведь, – и я коснулся края треуголки. – Не думайте вы об этом! – вскричал мальчишка. – Мы рады любому гостю!.. Он не лгал. Но за
его спиной могли таиться могучие злые силы. И я отважился спросить:
– О, нет, – махнул рукою добрый молодец. – На северной окраине
находится военный завод. Лет двадцать назад треугольные задумали его
разрушить. Ради мира на земле и всё такое. Мы, круглые, тоже не
хотели войны. Но мы понимали, что враги есть враги. – Вы это понимаете? – просиял Ник-Мур. – А то наши треугольные почитают врагов Нарцеи лучшими её друзьями… Я снова кивнул. Такое бывало. Не в силах задавить внутреннего врага, короли, а то и вожди мятежников нет–нет, да кликали на помощь соседей. И отдавали на разграбление самозваным спасителям родные сёла и города…
– Так вот, – услышал я голос парнишки. – Мы переселились к заводу и отстояли его. Да так там корешки и пустили. Поедемте, сударь? Он убедил меня. Мы миновали пару кварталов и вскочили в безлошадный фургон. Внутри было почти пусто и мы беспрепятственно сели. По дороге мы не обменялись ни словом. Когда же в окне дилижанса замаячила белая ажурная решётка, литератор подмигнул стремительно заплывающим глазом. Мы ступили на мостовую, нырнули в пролом ограды и оказались в роще. Поэт увлёк меня вглубь сада и вдруг остановился как вкопанный. В руке его замерцал игрушечный язычок огня. – Глядите!.. Не узнаёте?.. Средь призрачно-белых берёз потусторонне высился монумент – сидящий человек в сюртуке. Курчавые волосы… Решительно сжатые полные губы… Круглая шляпа… Воздали-таки должное, кощунники!.. – Сударь… Вы ведь были знакомы с Ал-Се?.. – Довелось однажды встретиться. – О-о, – вздохнул малый, – не знаю, как и выразиться… Вы для нас… словно прикоснувшийся к солнцу!.. Я улыбнулся. Солнце ведь тоже круглое. И спохватился. – Милостивый государь!.. Откуда вы вообще меня знаете? – Треугольные трубят о вашем приезде. И Наи-Ду мне звонила. Вы молодец, не считаете сказку устаревшим жанром… Так-так… Наи-Ду ему звонит… А пареньку от силы лет двадцать пять. Это вам не старый пошлец Дран-Цоу. Но я одолел себя. Ревновать по-пустому всё равно, что ехать в почтовой карете и поминутно хлопать себя по карманам, проверяя, на месте ли казна. Как раз и приманишь тех самых… Из вора кроеных, мошенником подбитых… – И на портретах видал я вас, – продолжал юноша. – В сборниках… Тут я затрепетал, как флюгер от порыва южного ветра. – В сборниках?! – Придём во дворец – покажу, – буднично сообщил сочинитель. – Во дворец?! – изумился я. Парень фыркнул. – Я разумею дворец Культуры. Я его сторожу. А днём торгую книгами, там ларёк. Вообще-то я адвокат, но сейчас без работы. Что характерно… Тех, кто меня сегодня бил, я год назад защищал. Мальчишки, в сущности… Впутались в историю с наркотой… Попали, как кур в ощип… Я добился, что им дали условно. И вот… не удержались на высоте!.. Обидно. Не понимаю поповского всепрощения!.. Но парень был таков от природы и выбивать из-под его ног опору я не мог. Потому лишь спросил: – Как вы решились на вашу вылазку, сударь? – А чёрт его знает, – помотал головой парнишка. – Ал-Се начитался. «Посла волкам скормить никак не можно» – и всё такое. Так то ж посол… А я был как лазутчик, перешедший границу. Таких встречают не хлебом-солью, а доброй пулей. На худой ко-нец – весомым булыжником… – Впредь будете умнее, – подначил я. – Ну это вы бросьте, – с неожиданной твёрдостью ответствовал стряпчий. – Вас-то я нашёл!.. Один меня услышал – и ладно… В памяти всплыло. Я
лежал на поле боя и умирал. Потом мне сказали, что рана – в голень,
повыше лодыжки – не была уж очень серьёзной, но я потерял сознание,
а когда опамятовался, то пальцем двинуть не мог от потери крови. Я
видел всё как в молоке. Надо мною, серые, как тени, кружились
вороны, а поодаль сидели, ожидая своего часа, одичавшие кабысдохи с
торчащими ушами и жёлтыми подпалинами у глаз. Шакалы, подумалось
мне. Интересно, когда всё будет кончено, передерутся собаки с
воронами или нет?.. Вот уж воистину – пёсья кровь. Ладно, ворона –
извечный враг человека. Но эти!.. И тут… возможно, я
находился у грани и мог узреть конечную, потустороннюю истину. А не
есть ли я такая же неблагодарная шавка для жён и детей круглых?.. Дворец действительно
впечатлял. Круглым трёхэтажным караваем высился он меж бараков
подобно рыбачьему островку, со всех сторон окружённому судёнышками.
Шесть беломраморных колонн украшали главный вход. Мы вошли. Ник-Мур
отпустил вахтёршу – старая женщина увидела его синяки и заохала, но
подробностей выведывать не стала. – Подпишите, сударь!.. … и сам Ал-Се
подписывал мне свой сборник. Быть может, жизнь в самом деле идёт по
кругу?..
8 Ночь я провёл во дворце, а утром двинулся к недавнему благодетелю. По улице я шёл в треуголке – не хотел объясняться с полицией. Но, войдя в подъезд, сунул шляпу под мышку – не хотелось вводить противника в заблуждение. Дверь отворила девочка. Отпрянула вглубь коридора. Не сразу я сообразил, что являюсь тем самым Простоволосым Людоедом, которому только доверься – сядешь на противень. Не следовало пугать ребёнка… Ну да теперь не поправишь. – Позови отца, пожалуйста, – обратился я с просьбой. Я уже знал, что скажу Дран-Цоу. Стороны треугольника – свобода, равенство, братство. Вот и дайте круглым свободу жить, как они хотят. И не вставляйте палок в колёса. Девчушка потупилась. – Батюшка не может выйти. Он… болен.
– Не сочтите за дерзость, барышня… Передайте… Пусть вернёт мои
записи и кинжал. – Он в бреду… Не найдёт! – Лекарь уже был? – осведомился я. Любите врагов своих. Барышня с готовностью закивала. – Тогда… Может статься, вы сами поищете? – Я не найду, – вздохнула хозяйская дочка. – Тогда… Если позволите, я сам погляжу! Уступив насилию, барышня отворила дверь. Покорно прошептала: – Идите… … Гражданин Вселенной сидел за могучим бюро, уронив голову на руки. Баклажанного цвета кудри свисли по обе стороны, открыв бледный, как рыбье брюхо, пробор. На беззащитной, будто ждущей топора, морщинистой шее блестела цепочка нательного знака. Занятно, подумал я, что там на груди? Треугольник? Или иной – неведомый мне лиходейский знак разрушения? На крышке стола возвышались: бутылка агвы, серебряная с чернью малая чарка и подставка, из которой дротиками торчали карандаши. Дран-Цоу горел
желанием разрушить весь мир, но прежде агва разрушила его самого. Я ощущал себя рыцарем в логове уснувшего ящера. Вы знаете эту сказку. Дракон угнетал людей. Время от времени находился смельчак, желавший сразиться с ним. Все воины ушли и ни один не вернулся. Не помню уж, каким путём люди докопались до истины. Каждый победитель, ослеплённый блеском золота, сам обращался в дракона. И продолжал истязать народ… А я-то думал, что треугольные устоят!.. Другой бы на моём месте задумался. Ну, помогу я круглым… и опять всё сначала? Но я солдат. Я рождён не мыслить, а бороться со злыми силами. Ха, бороться… К нему
в дом врывается абы кто, Человек-без-шляпы, а он, защитник, глава
семьи, пьян в дугу… Ладно, я… А кабы истинные враги?.. Что сталось
бы с дочерью? Листочек я забрал. Всё имеет предел, даже рыцарство. Осквернённый клинок, преданный мой дружище, висел на ковре с доспехами, чуть ниже правого рукава кольчуги. Я снял его, приложился к тёмному лезвию. Пусть не держит обиды. Покидая логово, я
притворил дверь покрепче. Девочка сидела в передней на шкафчике для
обуви, прикрыв лицо ладонями, как чадрою. Хрупкие плечики
вздрагивали. Женские слёзы… Не детские, нет… Слёзы бесчестья.
Посторонний разведал о тайном пороке отца… – Барышня… Слово чести. Никто не узнает. После чего хлопнул дверью, оставив подвластную дракону даму в пещере.
9 Этот мир ещё не стал мне родным. Но я уже не хочу его покидать. Я иду, и круглое солнце подмигивает с небес. 27.02.12. |
||
 В 2012 году к 75-летию автора в Ярославле, в
Издательском доме "Печать", издана книга Владимира Колабухина
"Заходи, апрель! Стихи разных лет".
В 2012 году к 75-летию автора в Ярославле, в
Издательском доме "Печать", издана книга Владимира Колабухина
"Заходи, апрель! Стихи разных лет".